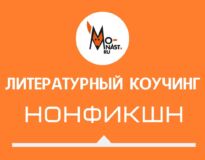Из романа «Один».

…Илья приехал к отцу Павлу ближе к ночи.
Город не отпускал. Душный, болотный, больной, он сегодня особенно был не в духе, мелочно и продуманно изводил каждого, кого встречал на своем пути. Крутил, вертел, запутывал, устраивал ловушки, не подпуская к вокзалу. Отменил электрички. Устроил проверку документов.
Илья злился, продумывал другие варианты. В Святогорье дороги вели только через Московский вокзал. Илья купил кофе на вынос, плюхнулся в жесткое кресло, прислушался к объявлениям: все по-прежнему, приносим свои извинения за доставленные неудобства. Матерный шепоток слева и справа, человеческая масса зашевелилась и тут же стихла.
– Не любите вокзалы?
– Не люблю.
– Аэропорты?
– Тоже.
Черный кожаный плащ. Ежик седых волос. Волчьи скулы. Рот – уголками вниз. Женщина не была ни молодой, ни старой. Лицо менялось как время, море и небо. Тысячи оттенков чужих судеб, тысячи слов и имен. Она тоже пила кофе. С щепоткой корицы.
– Совсем чуть-чуть, чтобы раскрыть вкус. Только мелочи раскрывают истинное положение вещей и состояний. Вас раздражает эта ситуация, Илья?
– Мы знакомы?
– Мара. Теперь знакомы.
– Случайный попутчик?
– Как вариант. Вы все равно чего-то ждете, я тоже жду, мы оба в коконе ожидания, так почему бы просто не поговорить?
– Чего ждете вы?
– Начала пути. Подобные задержки всегда означают начало пути. На них нельзя сердиться, их нужно принимать с благодарностью, правильно считывать знаки и выбирать нужную развилку.
– А если все развилки правильные?
– Тогда имеет смысл просто выбрать. Я знаю, о чем вы думаете. Сюжет из голливудских фильмов, которые так любит ваша жена. Герой в смятении. Он встречается с незнакомцем или незнакомкой, ведет странные беседы, и все либо еще больше запутывается, либо разрешается красивым хеппи-эндом.
– Хеппи-энд не может быть вечным, после титров всегда есть что-то еще.
– После титров наступает обычная жизнь, без спецэффектов. И после титров все обычно запутывается. Как у вас.
– У меня не было хеппи-энда.
– Был. Вы его не заметили. Прошли мимо нужной развилки.
– Если и так, то ничего не исправить.
– Даже на выжженной земле вырастают оливы.
– Моя жена так говорит. И добавляет – через поколения.
– Значит, им повезет больше, чем вам. Только и всего. В сложные времена надо уметь жить. Надо уметь жить во времена невезения, во времена отчаяния и во времена предательства. Надо уметь жить, даже если вино становится мертвым.
– Сохраняя веру?
– Сохраняя достоинство. Достоинство больше, чем вера и больше, чем любовь. Как вы думаете, кто обладает большим мужеством: тот, кто во время войны выживает и сохраняет свой род или тот, кто берет оружие и идет на смерть?
– Глупый вопрос.
– Вы так думаете? И что здесь глупое?
– Человек сознательно идет на смерть, совершает подвиг, гибнет. Это… это правильно, наверное. Отсиживаться в тылу, служить врагу – какое в этом мужество?
– Но первый погибает, и род прерывается. Второй вопреки всему выживает, спасает детей, спасает свой род.
– А это так важно? Естественный отбор, только и всего. Выживают, как известно, сильнейшие.
– О нет, – прозрачная улыбка на прозрачном лице. Как дождь ударяет по дождю. – Все не так. Все давно не так, Илья, только вы не хотите этого признавать. Выживает тот, кто выбрал путь и следует ему. Тот, кто сделал выбор, и этот выбор на развилке истории оказался единственно верным. Выживает тот, кто уже умер. Выживает тот, кто знает: если не держаться и не держать, можно обрести все, что ты хочешь. Ваш поезд объявили. Город сдался. Он вас отпускает. Вам не нужно туда ехать.
– Я поеду.
– Ваш выбор.
Почему он решил, что у Мары короткие волосы? Длинные косы как у Анны, завязанные в сложный узел. Плащ-размахай как у Анны. И даже родинка над верхней губой.
– Вы похожи на мою жену. Кто вы?
– Так и не догадался?
***
Единственный, кто вышел в Святогорье. В конце перрона, на проволоке, покачивалась лампа-фонарь. За фонарем начинались дорога и тьма.
Всю неделю здесь шли дожди, и дорогу окончательно развезло. Илья ухнул кроссовками в грязь, грязь чавкнула, Илья выругался. Громко и зло. Все не так. Не его. Если долго жить чужой жизнью, она врастает в тебя, и ты – не ты, и все не так.
Посмотрел в черное небо и показал средний палец. Понял, да?
Был бы день – поймал попутку. Никого вокруг. Ни души, ни машины, только рельсы подрагивают в ожидании товарняка.
Пошел пешком, наискосок через поле да лесок, по памяти припоминая: тут налево, там направо, а здесь еще пару километров прямо, потом свернуть через опушку. Илья гостил здесь всего пару раз, еще подростком. Тогда была жива матушка Василиса, которую отец Павел называл Васёнкой.
Пока шел, вызвал в памяти образ матушки Васёнки. Дородная, улыбчивая, коса на украинский манер через голову. Как корона. И стать у нее была королевская.
С матушкой Васёнкой Илья чувствовал себя спокойно и надежно. Больше, чем мать. Больше, чем бабушка. Больше, чем бог.
Никого он так не любил, как Васёнку.
Любил класть голову на ее большую грудь и слушать сердце. Сердце билось ровно и красиво. Как песня – долгая, переменчивая, в которой и радость, и печаль.
Любил смотреть, как она месила тесто для пирогов, как ставила мясной скоромный бульон под щи. Рот тут же наполнился слюной при воспоминаниях о тех серых щах, томленых, ароматных, с жирной деревенской сметаной. Щи действительно были серые и необычайно вкусные и сытные. И пироги – с грибами, капустой и мясом.
Отец Павел смотрел, как крестник уплетает стряпню – только уши трещат – подтрунивал:
– Твое счастье, Илюша, что сейчас не пост. Был бы пост, что бы ты делал?
– Неужто ты, батюшка, в пост голодаешь? – смеялась Василиса. – Придет нужда, я и из топора такую кашу сварю, что пальчики оближешь. Ты, Илюшенька, как поешь, сразу спать ложись. Силы не растрачивай на вечерние мороки. Я к тебе потом приду, сказку скажу, да песенку спою.
Он ждал этих сказок и песен. Голос у матушки был глубокий – от сердца. Сказок и песен знала много. Пока убаюкивала, чуть слышно стучала спицами. Вязала тоже хорошо, искусно, как жила – вещи получались теплыми и носкими. Илья долго носил подаренный свитер. По белому полю бежали красные кони и особым узором ложились славянские обереги. Мать увидела свитер – хотела выбросить. Но отец вдруг вызверился – запретил: «Не тобою вязано, не тебе выбрасывать».
Василиса умерла пять лет назад. Сгорела за месяц. Бабки в Святогорье шептали, будто сглазил кто матушку. Пришел чужой и порчу навел. Свой бы не смог. Свои – любили. Отец Павел подобные разговоры пресекал, горя не показывал, но сразу сдал: постарел, посуровел, замкнулся в себе. Словно разом жизнь из него вытянули.
Илья на похороны не приехал.
Сейчас шел проселочной дорогой и думал – почему? Смерть примиряет любые ссоры, а уж ту, давнюю, глупую, и подавно примирила бы. Мог, но не решился. Может, встречи с крестным боялся, вопросов его, может, не смирился с утратой. Не хотел видеть в гробу. Не хотел верить, что всё. Отпевания не хотел. Вот ведь, был в доме всего два раза, а Василиса оказалась ему ближе и дороже всех, кого знал. И так бывает. Родными становятся не по крови, по любви становятся и по близости.
Кроссовки устало месили глину. В промозглой темноте Илья шел наощупь, различая лишь скелеты деревьев. Наконец, за дождливым саваном показались первые теплые огни. Дом священника нашел сразу. Добротный, каменный, возле церкви. Калитка открыта – ждали.
– Пешком-то зачем? – укорил отец Павел. – Позвонил бы со станции – встретили.
– Не хотел обременять, – сипло ответил Илья и только сейчас понял, что промерз до костей, а сил отогреться – нет. Стоял в прихожей, мокрый, злой, растерянный. Зря приехал, нечего тут делать, только наследил на чистом полу.
Последнее зачем-то вслух сказал.
Отец Павел стянул с крестника мокрую куртку:
– На то и человек, чтобы следы оставлять. Приехал затем, что я тебя позвал. Зря или не зря – не тебе решать. Мал еще для таких решений. Смородиновой сейчас выпьешь, стопку налью, потом душ горячий, потом ужинать и спать. Программа ясна?
Когда Илья вышел из ванной, глаза совсем слипались. Показалось, что в доме много людей, самых разных, не схожих между собой, непонятных и шумных. Все они вились вокруг крестного, Илье стало ревностно и одновременно стыдно. Ревностно, что не все внимание ему. Стыдно от себялюбия: свалился как снег на голову со своей бедой, вдруг у кого беда еще хуже, еще страшнее. Все-таки, зря все это, переночует, уедет засветло, записку оставит. А там как-нибудь уж сам разберется: куда идти и что делать.
Крестный настроение уловил, обнял за плечи и повел на второй этаж. В небольшой комнатке мебели всего ничего – книжная полка, стол и стул. У окна постель – расстелена. На белоснежной наволочке красной вышивкой скачут кони в узоре славянских оберегов.
– Васёнка вышивала. Для тебя хранил.
Илья шумно выдохнул и беззвучно заплакал.
Дома.
– Хорош слезы лить, – нарочито сухо сказал отец Павел, только руки дрожали. – Здесь, значит, и будешь. Спать. Жить и все остальное.
– Что остальное?
– Остальное – завтра. Господь не оставит.
Торопливо перекрестил и вышел, прикрыв за собой дверь. Дверь скрипнула, Илья оглянулся в тишине. Один.
За окном бесновался дождь. В плотной пелене – ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Время, мысли – все остановилось. Только усталость. Спать, спать, спать. Хочется.
Нырнул в кровать, словно в пуховое облако. Вдохнул запах лаванды и мяты.
Во сне пришла матушка Василиса. Дунула ласково в лоб, приподняв непослушную чёлку:
– Спи, Илюшенька. Спи, мой хороший. Я тебе сейчас сказку скажу про Аннушку твою, боль остужу, вон лоб-то какой горячий. Утро вечера мудренее, правду люди говорят. Ты спи, сынок, отсыпайся. Завтра сна уже не будет. Завтра бежать придется. Завтра беда придет.
И зашептала в самое ухо:
Ты моя красивка.
Ты моя любимка.
Ты моя хорошка.
Ты моя пригожка.
Илья спал и плакал во сне.
Мама, мама…
Другой отрывок: https://mo-nast.ru/iz-romana-odin-maks-i-iggdrasil/
Моя страница в ВК: https://vk.com/public176523965