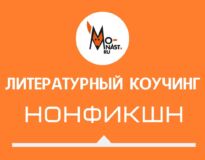В деревне, где мы жили, никогда не было ключей. Старики говорили, что дети сразу такими рождаются – бесключными. Сколько на связки ни нанизывай – все одно: либо потеряют, либо сломают. И замков поэтому в деревне не водилось. Двери открыты, без стука и приглашения никто не войдет.
Отец меня не любил. Я сама по себе уродилась, ни в него, ни в маму. Рыжий пух на макушке, скошенные черты. Чертом нагулянная, – так в деревне говорили. В измене, понятное дело, винили мать. Та была красавицей – лицо белее мрамора, черные глаза и брови, черные волосы до пола, губы – рябина на снегу. И про то, как целовалась она у кромки леса, многие рассказывали. Будто ягоду надкусишь – и сок сладкий и горький одновременно. Там у леса отец и скормил жену-красавицу волкам. Они тогда его еще хорошо слушались. Хозяином был. Хотел и меня скормить, да бабка Аграфена в погребе спрятала:
– Ты, дитяко, тут посиди. Схоронись, как следует. В бочке яблочки моченые, не пропадешь. Эх, беда бедовая пришла, откуда не ждали. Дальше только хуже будет. Дальше зверь зверя станет искать. А найдет – все мы и сгинем. Мать твоя агнцем жила, агнцем и смерть лютую приняла. Любят люди наговаривать на чужое и сладкое. Волосы твои – от деда достались. Ой, и рыжий он был – солнца не надо. Выйдет – глаза слепит. Все девки за ним бегали. И я грешна, тоже случалось. В папоротниках помню, с ним обжимались. Ох, и сильный твой дед был, жаркий. Много папоротников мы с ним измяли, цветы белые поломали, я ж не знала, что цветы беречь надо, как и честь девичью. Ночь особая была, Купалова. В такую ночь либо сбудется все, либо жизнь острым краем надрежет, и весь сок-то ее и выйдет. У меня не сбылось. Надрезало. Ты спи, дитятко, спи! Платком укрою. Сиротка ты теперь. Без защиты и правды. Авось, боги и судьбы помогут, выживешь…
Про маму потом люди разное говорили. Чаще, что обернулась она волчицей статной, стала главой стаи, в лес ушла. Правда или нет, только с той поры волки отца слушаться перестали, и деревня волчий оберег потеряла навсегда. Волки приходили зимой, задирали коров и овец, летом – кого придется. Семь лет и семь дней бабы не могли зачать, люльки потрескались, и кошки из домов ушли.
Но тогда, отплакав свое и съев последнее моченое яблоко, я спала в холодном погребе. На лоскутном одеяле, прикрывшись собачьим пуховым платком. Во сне видела лес и слышала вой волков. Выл и отец. Протяжно и жутко, прижав к горлу прядь черных волос.
Из них он браслет и сплел. Тайком от Метелицы. Браслет этот на нем мертвом и нашли…
Но сначала отец уехал в город. Месяца на два, а, может, и на год. Время тогда запуталось, никто колтуны на нем не расчесывал. Меня – последнего ребенка, с которого все началось, – деревня из дома в дом передавала. Кормила, поила, гладила по рыжей голове… Сказки сказывала, пока я промеж молодыми лежала. Ведь ясно же: если ребенка, чертом нагулянного, с которого все началось, и который семя украл, в супружескую постель положить и слова правильные сказать, то и проклятие сгинет – детки пойдут. А чтобы я побыстрее заснула, парни да девки сказки рассказывали. Одна сказка особенно нравилась. Про двух девушек, медведя заколдованного и сокола.
Во дворе у нашего дома – по обе стороны соснового крыльца – росли два куста роз. Белый и красный. Я их так и звала – Розочка и Беляночка. Розочка открывала бутоны ранним утром, Беляночка – вечером, и это был совсем другой аромат – наполненной ночными мороками и печалью. Спать я всегда возвращалась домой. Боялась, что мама однажды вернется за мной, а ну-тка, не найдет? Как быть тогда? Ну, и что, что она стала волчицей… Буду и я рыжим волчонком.
Отец вернулся в середине октября. Седой и страшный. Будто кто-то чужой высосал в нем все – и радость, и горе. Оставил на самом донышке, чтоб дышал. И как только переступил порог, пошел тяжелый снег. Засыпал – сжег розы. Потоптался на крыльце, выстудил окна и сгинул. Будто и не было его.
– Теперь это твоя мамка. Ее слушай.
Метелица стояла у окна – большая, мягкая и легкая. Пышная перина зимним вечером – нырнешь и утонешь.
– Подойди ко мне, девочка, – цепко взяла за подбородок, повернула мое лицо к свету, улыбнулась собственным мыслям. – Ничего в тебе не понять. Судьба смазана. Может, к зиме что-то и прояснится.
Вместе с Метелицей в доме появилась большая кровать, три перины, шесть одеял и двенадцать подушек. Мачеха долго ходила по дому, бормотала что-то под нос, мерила, считала. Кровать поставили у окна, в самой большой комнате. Раньше я в ней жила, теперь они стали. Дверь Метелица запирала на ключ, но, если подтянуться с улицы и прижать конопатый нос к стеклу, можно было разглядеть, как она там устроилась.
Отец не любил ее – боялся. Боялась и вся деревня. Когда Метелица шла по улице, наступала тишина. Только слышно было, как тяжелые и широкие каблуки мачехи вдавливают камешки в щербатую дорогу. В магазине она всегда брала одно и то же: хлеб, сало, водку. Остальные продукты привозил отец. За пару недель такой жизни еще больше иссох и съежился. Каждое утро он ослаблял браслет из черных волос, но уже к вечеру тот туго сжимал запястье. Кровь капала, отец ее жадно слизывал.
Метелица молчала. Отец молчал. И я перестала говорить.