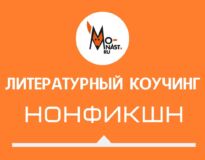Из цикла «Аллюзии». История января.
И в Петербурге бывают такие дни, когда хочется убить.
Порфирий Петрович ерзал на черном сиденье и смотрел на часы.
20.40.
— Голубчик, нельзя ли побыстрее? Можем не успеть.
— В гости к богу не бывает опозданий. — Родион взглянул в зеркало, и вежливо добавил. — Успеем, босс. Через дворы прорвемся.
Порфирий Петрович хотел сказать, что дворы в Питере давно закрыты, и в этих дворах давно мороки, но тут Родион вдавил педаль, и где-то оборвалось — то ли жизнь, то ли струна. Стало трудно дышать.
Они разрезали Шпалерную, и Порфирий Петрович на мгновение увидел небо — седое и бессмысленное.
— Сейчас, сейчас, — бормотал Родион. — Успеем.
В окне, на скорости и в дожде, отразились старуха и беременная. Беременная держалась за живот, старуха трясла пергаментным кулаком.
— Твари, — Родион свернул в очередной двор. – Если бы не время, я им бы показал.
Только сейчас Порфирий Петрович заметил в руках водителя чёрную погремушку — связку брелоков от питерских дворов.
— Где ты их раздобыл?
— Выиграл, — на лбу Родиона блестели бисеринки пота.
— В карты?
— Жену поставил. Ее проиграл, ключи выиграл. Не в обиде, ключи нужнее. Приехали, босс. Еще семь минут.
Порфирий Петрович вышел из машины. Слабый ливневый снег ударил по лицу. Бум-бум, мой герой, знаешь ли ты, что будет дальше?
Неприметная дверь. Таких в Питере тысячи. За ними сотни историй, но кто хочет их узнать до конца?
Палец вдавил кнопку.
— Мы ждём вас, профессор, — невидимые руки приняли пальто, кашне, шляпу и портфель.
Порфирий Петрович положил телефон на серебряный поднос. Таковы правила. В зал можно взять блокнот и ручку. Их Порфирий Петрович не любил. Ни правила, ни блокноты.
Мельком взглянул в зеркало. Несмотря на возраст, даст фору молодым. Благородная седина. Плотная, но не расплывшаяся фигура. Черты лица – из тех, что любят женщины: и юные, и возрастные. И глаза. Левый — серый с карим пятнышком, правый — карий с вкраплением серого. Не аномалия, а особенность. Такие глаза бог не дает просто так и абы кому не дает тоже. У бога все посчитано и продумано.
— Вас ждут, — в голосе управляющего уловил подобострастие. Порфирий Петрович любил, когда люди знали свое место.
Дверь в зал бесшумно открылась.
***
Петербургский детективный клуб создали в конце прошлого века, от скуки и профессиональных амбиций. За годы в нем много кто побывал – прокуроры, адвокаты, следователи, писаки-детективщики, всевозможные консультанты и мозгоправы. Но со временем круг сузился, и клуб стал для избранных. Только избранный может вести игру, и только избранный может понять суть истинного преступления.
Двенадцать кресел.
Двенадцать игроков.
Время встречи – третья пятница в девять вечера.
Правила просты. Игрок получает загадочное преступление, которое должен раскрыть за месяц. Через месяц получает либо награду, либо покидает клуб, и место занимает другой.
Сегодня игроком был он.
Порфирий Петрович прошел в зал и уселся в кресло. Коротко кивнул председателю:
— Мое почтение, Никита Александрович.
Председатель в ответ нехорошо усмехнулся. С издевкой.
Порфирия Петровича здесь никто не любил. За глаза прозвали «мозгоедом». И все же Порфирий Петрович продержался дольше других. Одиннадцать раскрытых. Да, его здесь не любили.
Председатель кашлянул, наступила тишина.
— Мы с нетерпением ждали вас, господин профессор. В ваше отсутствие, уж простите — все то же нетерпение сердца, обсуждали одно прелюбопытнейшее дельце. Сможете его раскрыть? Наши скромные умы это уж точно сделать не в состоянии.
Снова издевка. Порфирий Петрович снисходительно принял фальшивый комплимент и взглянул на экран.
Двадцать четыре мужские фотографии. В центре одна, женская.
— Мужчины, полагаю, мертвы? – спросил он.
— Умерли в течение трех последних лет.
— Причины?
— Ничего криминального. Тромб, ковид, инфаркт, онкология, один задохнулся во сне – слишком громко храпел.
Осторожные смешки за спиной.
— И надо полагать, что все они знакомы с этой барышней? – Порфирий Петрович разглядывал невыразительное женское лицо. Мышь? Моль? Старая дева?
— Шапочно. Все ходили в одну и ту же библиотеку. Барышня работает библиотекарем. Точнее, библиотессой, так она себя называет. Схема простая. Мужчина записывается в библиотеку, и через два-три месяца умирает. А имущество…
— А имущество он, конечно, завещает вот этой барышне?
— Именно!
— И на все случаи у нее есть алиби?
— Стопроцентное.
— Барышня вступила в наследство?
— В десяти случаях. По остальным — суды. Родственники в шоке. Он, говорят, никогда не любил читать, а тут…
— Кто он, укажите конкретно.
— Ну вот этот, этот и тот, да все они не любили читать. Кто вообще в наши дни ходит в библиотеку?!
— Вы хотите знать, как она их убивает?
— Как и почему. Может, она убивает их словом, профессор? Или зомбирует? Попробуйте гипноз, когда станете с ней говорить. Вы же это умеете?
Снова смешки за спиной.
— Так вы беретесь?
— А были сомнения?
Вялые и неискренние аплодисменты.
— Правила вы знаете, — теперь уже не издевка, оскал. – У вас ровно месяц. А теперь, господа, предлагаю перейти к неформальному общению.
Порфирий Петрович взял бокал с виски и отошел к окну. Февральская Нева лениво перекатывалась в сизых расколотых льдинах. У виски был привкус дыма и чего-то еще. Сразу и не разобрать.
— Профессор? – Председатель подошел незаметно. – Восхищен, невероятно восхищен вашей смелостью. Могли ведь и отказаться. У нас, знаете ли, многие отказываются, и ход переходит к следующему игроку.
— Не люблю пропускать ход.
— Хотите знать мое мнение? – спросил Председатель и продолжил, хотя Порфирий Петрович молчал: — В этот раз вы проиграете. Проиграете и уйдете. Она вам не по зубам. Она никому не по зубам. И не по мозгам. Даже вашим.
— Я вам так надоел? – Порфирий Петрович допил виски и поставил бокал на подоконник. – Или у вас что-то случилось?
— Оставьте ваши психиатрические штучки, со мной они не работают.
— Они со всеми работают. Кстати, как ее зовут?
— А разве это важно? – на улице мигнул фонарь. — Кажется, Сонечка или Неточка. Какое-то дурацкое имя из школьной программы.
***
Ее звали Груша. Грушенька Версилова.
Порфирий Петрович узнал это на следующее утро, когда открыл папку с материалами. Тридцать семь лет. Не замужем. Детей нет. Родителей тоже. Родилась и выросла в детдоме. Три года назад попала в аварию. Пережила клиническую смерть.
Порфирий Петрович разложил на столе фотографии жертв и прошел на кухню. Ритуал отточен до мелочей. Вода, капсула с кофе, любимая чашка. Машина гудела, Порфирий Петрович думал.
Суббота и воскресенье на то и даны, чтобы человек мог хорошенько подумать накануне понедельника.
Вернулся в кабинет и снова взглянул на фотографии. Разный возраст, статус, семейное положение, разные финансовые возможности. Никаких пересечений. Так как же они ее находили? И главное – зачем?
Он сделал глоток – язык обжег вкус перца и карамели – взял фотографию Груши.
Нет, не мышь. И не моль. И не старая дева. Лицо-заготовка. На таком лице можно нарисовать, что угодно – от судьбы до истории. Она может быть той, какой пожелает. Но вот какой она хочет быть для себя?
Какую книгу я читал в последний раз?
Мысль возникла из ниоткуда, как умирающий снег за окном. Он оглядел уютный и такой уже привычный кабинет, в котором не было ни книжного шкафа, ни книжного стеллажа. Все книги в компьютере, но и там он их не читал.
— Нельзя читать книги, профессор, — сказал ему давешний пациент. – Иначе произойдет с вами все самое страшное.
— Что, например, голубчик?
— А вот то самое и произойдет. Бывает, лежишь ты в теплой постели, никого не трогаешь, и вдруг становишься частью какого-то плана. А все после книги, которую на ночь читал. Не читайте книг на ночь, профессор, и утром тоже не читайте, иначе станете частью чужого плана.
Порфирий Петрович допил кофе и решил, что ему как можно скорее нужно записаться в библиотеку.
***
— Ваш билет, — Грушенька протянула пластиковую карточку. Порфирий Петрович молча взял билет. — Теперь вы можете выбирать книги и брать их на дом.
Ее голос оказался хрипловатым, улыбка равнодушной, а между верхними зубами была едва заметная щелочка. Русые волосы убраны в небрежный пучок, прядка над ухом, никаких украшений и макияжа. Но аромат… От нее шел свежий и одновременно густой аромат. Скошенная трава в июльский полдень. Словно все еще впереди и все еще можно исправить.
Его толкнули в спину, и Порфирий Петрович послушно отошел, оглушенный и смущенный не понятно от чего. Взял не глядя книгу с полки и сел в свободное кресло, напротив стойки библиотекаря, — наблюдать.
В очереди только мужчины. Грушенька была со всеми одинаковой – приветливой и равнодушной. Забирала книги, выдавала новые, делала отметки в базе. Ее пальцы носились по клавиатуре туда-сюда, и казалось, что Грушенька набело пишет судьбу каждого, и что судьба каждого уже предрешена.
Он зажмурился, а когда открыл глаза, рядом сидел рыхлый мужчина лет сорока.
— Тоже ее хочешь? – спросил он и поправил на коленях стопку книг. Данте, Петрарка, и «Русский транзит» в ветхой обложке. – Чо покраснел? Здесь все такие. Все ее хотят. Только никто не получит.
— Почему? – более глупого вопроса нельзя и представить, но Порфирий Петрович все же его задал.
— Потому что не даст. Она никому не дает.
— Тогда зачем все сюда ходят?
Мужчина посмотрел на профессора как на идиота, но после паузы все же пояснил:
— А куда еще идти? Не домой же. Дома ад, на работе тоже ад. В мире ад. А тут…
— Рай?
— Скорее, чистилище, — он вздохнул, и Порфирий Петрович уловил пиво, мятную жвачку и недокуренную сигарету. — Вот придешь, сядешь напротив, и вроде как в жизни все становится понятно. Что ты, зачем и почему. Я сюда третий месяц хожу, книжки стал читать, в музей даже один раз сходил. Часы с павлином смотрел. Красивые, сука. Павлин – пижон. Паркет там хороший, блестит.
— А чувствуете себя хорошо?
— Ты, что врач? А, ну понятно. Но если врач, то нормально себя чувствую. Устаю, правда, больше и сердечко пошаливает.
— Давно пошаливает?
— С месяц, наверное. Но только там, — он мотнул головой в сторону окна, где шумела улица. – Здесь у меня все хорошо. Грушенька один раз даже за руку взяла, и я все… Будто заново родился. Словно нужен я зачем-то. А кому – уже и неважно. Главное – нужен.
— Погодите, голубчик, — Порфирий Петрович почему-то разволновался и заторопился. – А как вы сюда вообще попали? Как вы эту библиотеку нашли?
Мужик лихорадочно пролистывал книги:
— Записку ей написал, а в куда положил, не помню. Как нашел? Да просто. Лесом запахло. Знаешь, таким гниловатым мхом и грибами после дождя. Ну что зенками лупаешь, ты в начале сентября хоть раз собирал грибы? Вот! Там такой запах и есть, по лесу идешь, и лес весь твой – от шишки до мухомора. На улицу, помню, вышел, мороз, декабрь, а в нос лес из моего детства так и вдарил. В сказке подснежники, а мне лес с грибами привиделся. Ну я и пошел за грибами, через два проспекта и три улицы, и пришел в библиотеку. Анекдот! Кому расскажи – не поверят. Но тут все верят… Все так пришли. Кто лесом, кто морем, кто пустыней. Все к ней идут, кому надо. С ней не то, что умирать, жить — не страшно.
***
— Библиотека закрывается. Пора домой.
Порфирий Петрович оторвался от сборника любовных историй и подслеповато уставился на библиотессу.
— Уже так поздно?
Она кивнула и поправила черный шарф. По шарфу бежали белые скелетики на лыжах.
— Можно я вас кофе угощу? – Порфирий Петрович надевал пальто и никак не мог попасть в рукава.
— Лучше накормите, — Грушенька звякнула ключами. – Я такая голодная, что могу и плохих дел натворить.
— Все, что вы пожелаете, голубушка.
Она улыбнулась «голубушке» и привычным движением подставила локоть.
У Порфирия Петровича закружилась голова.
***
— Хорошее место, теплое, — Грушенька кивнула, и он подлил еще вина. – Редко, когда в ресторане можно поговорить по душам. Мы ведь с вами знакомы уже целую вечность.
— И еще один день, — Порфирий Петрович скомкал салфетку. – А если быть точным, я хожу в вашу библиотеку уже три недели.
— И три недели вы не решаетесь задать вопрос, который вас мучит.
— Именно так.
— Так задайте, — она смотрела на него сквозь хрусталь. – Все, что мы хотели и не сделали, однажды меняет нас и далеко не в лучшую сторону. Задавайте ваш вопрос, профессор.
— Это вы их убили?
Затихли скрипки и разговоры. Грушенька допила вино – красное и терпкое – промокнула губы, и вздохнула, словно Порфирий Петрович сказал что-то пошлое:
— Ну, конечно, я, глупенький. А как иначе?
Она взяла руку Порфирия Петровича, нежно провела по ладони:
— Смотрите, какие линии у вас интересные. Линия любви давно оборвалась, а линия жизни скоро закончится. Вот здесь, чувствуете? – Грушенька надавила на ладонь, на какую-то, одной ей известную, точку. Стало больно, сладко и стыдно. – В этой точке, Порфирий Петрович, все начинается и все заканчивается. Вот я еще раз надавлю. Что вы чувствуете?
— Тоску.
— Именно. Перед смертью к нам всегда приходит тоска. Уходить, когда жизнь в самом разгаре, никому не хочется. Я это точно знаю.
— Но если вы их убили, то как и почему?
— А какой вопрос главный? — она небрежно повела узким плечом, и теперь уже официант подлил вина. – Что важнее? Как или почему? Я отвечу только на один вопрос.
— Важнее – почему. Как – наши люди разберутся.
— Но ведь до сих пор не разобрались. Вы выбрали неправильный вопрос, но я отвечу, раз обещала. Сколько вам, Порфирий Петрович?
— Вы заполняли анкету и знаете мой возраст.
— Биологический. Через полтора месяца вам исполнится шестьдесят три. Это немного, но и немало. Но если не биологически, если с точки зрения того, что не сбылось, сколько вам лет? Вижу, что вы не поняли, а между тем, вам, милый Порфирий Петрович, почти сто, самое время уйти и уступить место другим.
— Я действительно вас не понимаю.
— Как и другие. Так утомительно все это объяснять снова. Ну, хорошо… Вы когда-то хотели сделать переворот в науке, не получилось. Хотели имя, славу, и, может быть, немного удобных отношений, разношенных, как ваши любимые войлочные тапочки, но и этого не вышло. Все, что в вас осталось хорошего, тот июльский день. Помните? Когда все были живы, а вы молоды и полны надежд. Отец косил траву, мама перебирала ягоды, а ваша то ли невеста, то ли почти жена была невероятна хороша.
Ну, что вы на меня так смотрите? Все вы так на меня смотрите перед тем, как осознать – пора. Ничего здесь не сделали и уже ничего не сделаете. Все, что от вас сейчас требуется, — уйти. Уступить место другим.
— И квартиры, — официант зажег свечу на столе, и Порфирий Петрович вздрогнул от звука горящей спички. – Не забывайте про квартиры. Про фамильное серебро. Монеты и марки.
— Вы еще забыли про фамильные бриллианты, — браслет на руке Грушеньки вспыхнул в пламени свечи. – Впрочем, вы первый об этом упомянули. Что бы вы мне хотели завещать, Порфирий Петрович? Что у вас есть такого, чтобы мне вдруг стало интересно? Ну, вот, опять этот взгляд. Попробую еще раз. Вы раньше думали, какой будет ваша смерть? Легкой или мучительной? И самое главное – о чем вы пожалеете или подумаете в последний момент? О том, что все удалось или о том…
Она поманила его пальцем, Порфирий Петрович послушно наклонился.
Грушенька прошептала в ухо:
— …Или о том, что вы абсолютно, безусловно и безнадежно промотали свою жизнь. Начиная, с того летнего дня.
— И что тогда?
— Да ничего особенного. Однажды все они – рука обвела зал в ресторане — поймут, что вы – никто. Но если вы никто, то кто о вас вспомнит? Ни сейчас, ни потом.
— Теперь я вижу, что вы такое.
— И что же?
— Недотыкомка. Мерзкая, отвратительная недотыкомка.
Порфирий Петрович налил водки, выпил. Грушенька насмешливо смотрела на него. Бокал на тонкой ножке танцевал меж ее белых пальцев. – Так вот как вы это делаете: запугиваете, обещаете, шантажируете.
— Я предлагаю варианты, Порфирий Петрович. Представьте, что вы умрете, скажем… — Грушенька посмотрела на календарь в телефоне. – Скажем, завтра. И неважно, будете ли вы умирать в полном сознании или нет, все равно вы окажетесь на той самой развилке…
— На какой развилке?
— Там, — уголки рта приподнялись в хищной улыбке. – Где ваша жизнь еще имеет значение и где ваша жизнь уже бессмысленна. Налево – вас запомнят. Направо – забудут.
— Глупости! Я все равно умру, ведь так? Все остальное уже не имеет значения.
— Не скажите. Если ваша жизнь имела значение, вы узнаете, что дальше. А дальше, поверьте мне на слово, может быть очень интересно. Но если развилка уйдет направо, вас отправят в мусор.
— В какой-такой мусор?
— В какой-нибудь. Вас переработают.
— Меня?
— Вас, Порфирий Петрович. Не ваше тело – оно все равно умрет. Переработают вашу жизнь, мысли, чувства, ощущения. Душу, если вам будет угодно. Переработают и съедят. Ням-ням, чавк-чавк. Вы не представляете, каким вкусным может быть человеческий мусор, если его правильно переработать.
— И кто же меня съест? Сатана?
Она снова улыбнулась.
— И что, все эти мужчины, они верят в эту ерунду? – потрясенно спросил Порфирий Петрович и взял счет у официанта. – Вы убиваете только идиотов?
— Не только. – Грушенька вложила в кожаную папку пару крупных купюр. – Не люблю, когда за меня платят. И вот какой странный парадокс, мой милый, Порфирий Петрович. Вы теперь знаете, почему я это делаю: я помогаю людям выбрать правильную развилку, но вы, да-да, именно вы, так и не решили, что готовы отдать в обмен на то, чтобы не стать… м-м… мусором. А между тем, за все надо платить, особенно за то, что будет после смерти.
Так вам есть, что мне предложить, пока еще не поздно?
***
Был второй час ночи, но Порфирий Петрович не спал. По возвращении домой он принял душ, облачился в любимый халат, выпил коньяку и уселся в кресло. В окно светила луна, за окном шел снег. Небо было серебристо-розовым. Следуй за небом, беги от себя, — вспомнился старый японец. Весь этот месяц Порфирий Петрович читал только лишь японцев – старых и относительно молодых.
Она – мошенница. Это факт. Заманивает мужчин в сложных жизненных ситуациях и убивает. Как – пока непонятно. Нужно было об этом спросить Грушеньку, а не слушать бред про развилку и мусор. Кому вообще это важно? Умер, и черт с ним. Первые две недели повспоминают, кто-то поплачет, потом забудут. И плевать! Завещание оформлено, имя, пусть и плохонькое, в науке есть. И любовь была, и дети. Даже внук имеется. Накоси – выкуси, Грушенька. Жизнь прожита хорошо, прекрасно она прожита, эта самая жизнь – с рождения до сегодняшней ночи. Все в ней было, и когда придет тот самый час (и уж точно не завтра, как она сказала), а через много-много лет. Его запомнят, ему будут благодарны, он не станет мусором, его не переработают где-то там. Его не сожрут. Ада нет. И рая нет. И чистилища. Там – нет ничего. Слышишь, дура? Нет там ничего! Ничегошеньки.
Порфирий Петрович почесал грудину слева, опять ноет, и налил еще коньяка. Был у него клиент – в прошлом патологоанатом. И вот этот клиент всегда говорил: если, батенька вам не спится, встаньте и примите коньячку. Это лучшее снотворное. У всех, кого я вскрывал, были большие проблемы со сном.
Она просто сумасшедшая, Грушенька. Так он и скажет. Тварь она дрожащая, и прав у нее никаких. Зомбирует. Находит жертву и зомбирует. Гипноз. НЛП. Мало ли других техник? Вот и его почти загипнотизировала, но он не поддался. А другие и рады – отдают все, что есть. Вот он не даст ничего. Ни квартиры – она завещана, ни машины – машина Родиону, ни часов золотых от отца, ни перстня с черным бриллиантом. Ничего он не даст этой Грушеньке с ее сумасшедшими пленительными изгибами. Как же ноет-то: и в грудине, и в спине, и в душе. Муторно и страшно.
Порфирий Петрович открыл окно: лицо обжег ветер. Небо совсем рядом – протяни руку и коснешься. А если стул подвинуть и на подоконник встать? Тогда он сам возвысится. Над городом. Над небом. Над жизнью.
Вот теперь он всесилен. Только что ему с этим делать?
— Слышишь, ты, там ничего нет! – заорал Порфирий Петрович и салютовал бокалом городу и богу. – Там ничего нет!
Сделал шаг вперед и полетел, и только в самый последний момент, за секунду до асфальта – понял – есть.
Там есть все.
Кроме него.
***
Вместо домов у людей в этом городе небо
Руки любимых у них вместо квартир
Я никогда в этом городе не был, не был
Я всё ищу, и никак мне его не найти.
Голос БГ был мягок и вкрадчив.
— Родя, милый, выключи радио и поторопись. Туман за нами.
— Не извольте сомневаться, Аграфена Александровна, доставлю в лучшем виде.
Грушенька мазнула помадой по губам и взглянула в зеркало. Некрасива, но хороша. Откинулась на кожаную спинку и выдохнула – стекло запотело.
— Немного вина для куража? – Родион подмигнул в зеркале. – Уважаю. Женский кураж – это сила. Не то, что мужской.
— Прежний наниматель тоже любил кураж?
— Не помню. Кто там был до вас, какая разница? Все как в тумане. Вы же понимаете.
— Понимаю, милый. Вот здесь притормози.
— Не тот подъезд. Ваш – следующий. Если пешком – опоздаете.
— Подождут.
Грушенька вышла из машины. Медленно и неуклюже ступила на обледенелый тротуар. Маленькая серая мышка на острых каблуках. В сером пальто. Недотыкомка, как кто-то однажды сказал. Кто это был? Теперь и не вспомнить. Ни одного четкого имени, ни одной законченной истории. Только мусор. Но ей нужен именно он, ведь он такой сытный, такой вкусный, этот человеческий мусор. И пока есть мусор, она будет делать свою работу. И делать ее хорошо. Особенно в такие дни, когда хочется кого-то убить. Обычный бизнес, ничего личного.